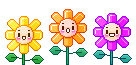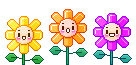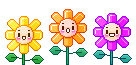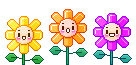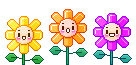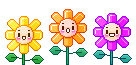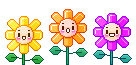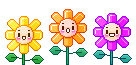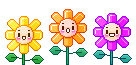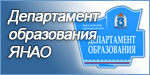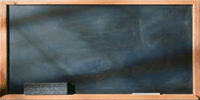На Исторической сцене Большого прошла премьера оперы «Евгений Онегин» в постановке режиссера Евгения Арье, художника Семена Пастуха и дирижера Тугана Сохиева с Игорем Головатенко в главной партии. Без него новый спектакль трудно представить Юлии Бедеровой.
Как сам спектакль, кажется, обречен на сравнение с легендарной уже постановкой Дмитрия Чернякова, так и рассказ о нем как будто обречен на то, чтобы вертеться вокруг сопоставлений. Но сравнивать тут нечего: премьера демонстрирует театр совсем иного уровня, типа, цели и манеры. И сравнивать утонченный, до крайности интеллектуализированный психологический театр Чернякова с полноформатным шоу нового «Онегина» все равно что сравнивать зеленое с соленым.
Новинка представляет собой тот тип туристического театра выходного дня, который теперь регулярно появляется в Большом по самым разным поводам. Это эффектный театр больших форм, глянцевых фактур, лаконичных декораций, неонового света, мерцающего снега, хрустальных люстр и театрально заломанных рук. В нем помещается немного современных вариаций комедии дель арте, чуть-чуть эстрадного концерта, толика русского юмора и журнальной психологии. Этим «Онегин» не отличается принципиально от «Леди Макбет» Туминаса, «Севильского цирюльника» Писарева, «Манон Леско» Шапиро и, конечно, «Идиота» того же Арье.
Перед премьерой ходили слухи про смешных гусей в усадьбе Лариной, эти гуси на пластмассовой лужайке в обрамлении легких белых занавесей — в них размещены все «лирические сцены» одна за другой — оказались чуть ли не лучшим, что есть в спектакле. Азартно-ироничное шоу как бы отсылает нас к живой традиции ставить «Онегина» как серию лубочных иллюстраций а-ля рюс, альбом с открытками, но ссылка брошена, дальше многие, кажется, предпочитают смотреть спектакль с полузакрытыми глазами, слушая музыку.
А здесь сюрприз — новый «Онегин» сам на себя не похож и как будто стесняется собственной музыкальной физиономии. Музыка у Сохиева разложена по полочкам, развешана на плечиках: такой аккуратный гардероб музыкальных вещей. То ли попадая в плен к идее разложить историю на сцены (каждой предшествует свой титр на дымчатом занавесе), то ли по иной причине партитура движется медленно, грузно и скрупулезно. Каждая фраза, ария, сцена независимо от собственного замедленного или ускоренного решения выстроена с ровной квадратной размеренностью и заканчивается безусловной точкой. Сохиев математически распределяет плотность и скорость — от лоскутной динамики первого действия через монотонную похоронную стать второго (если бы это были намеренные похороны старого спектакля, было бы понятно, но это не они) к спорым темпам атлетичного финала. Гардеробная фрагментарность, как будто вещь сняли с плечиков, встряхнули, примерили и, расправив складки, повесили обратно, позволяет как следует рассмотреть и расслушать музыкальную мысль, но не дает ей жить, дышать и увлекать.
Певцам в этой странно тяжеловесной, нарядно церемониальной, прозаической музыкальной интерпретации поэзии Пушкина и Чайковского приходится непросто: они как на ладони. Дело усложняется тем, что мизансценически они всегда на авансцене. Таким образом, качество вокала оказывается отдельно, а музыки — отдельно. Интересные голоса, тщательная фразировка, характерные тембры, ансамблевые связи — все хорошо прослушивается, но в настоящую оперу с ее подвижной, хитроумно трепетной музыкальной пластикой не собирается.
Есть большая ценность в том, как, например, няня у Евгении Сегенюк (тут совершенно не важно, что образ решен карикатурно) наконец-то звучит с понятной звуковысотностью, а не приблизительно, как часто бывает. Или в том, как вокально аккуратен, без надрыва, Ленский Алексея Неклюдова, а Ольга Алины Черташ по звуку нетрафаретно драматична и тепла. Но все эти ценности никак не связаны между собой и, кажется, легко могут быть заменены другими или отсутствовать. Ритуальный ход парадной музыки «туристических сцен», в которую здесь превращается «Онегин», кажется, ничто не остановит. Единственное, что, вероятно, невозможно заменить,— это партия Онегина в исполнении Головатенко. Новый спектакль — опера про него, а не про Татьяну. То обстоятельство, что Головатенко с чувством и толком играет и поет Чайковского как вердиевскую партию, не путает и не нарушает общей аккуратности: всякая вещь может оказаться элегантно висящей на плечиках среди других. И эта наиболее красива.
Источник |